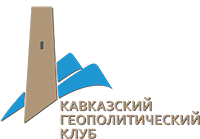Энергопасьянсы Турции: мирный атом в тумане?

Специалисты строящейся на средиземноморском побережье Турции силами Ростома АЭС "Аккую" надеются, что оборудование, заказанное в Китае после отказа Siemens от поставки, будет готово в этом году, сообщил РИА Новости председатель совета директоров АО "Аккую Нуклеар" Антон Дедусенко.
Отказ немецкой Siemens поставить оборудование на строящуюся АЭС вызвал задержку в полтора года, заявил в январе министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар. Ввод в действие первого энергоблока, изначально намеченный на конец 2023 года (к юбилею "новой" Турции Кемаля Ататюрка), в итоге сильно сдвинулся (хорошо, если только на два года). Ввод в строй второго блока пока планируется на конец 2026 года (сборка продолжается), установка корпуса реактора третьего блока отнесена на 2027 год, ведутся работы по закладке фундамента четвёртого блока в 2028 году. Впрочем, получится ли выдержать эти строки – доподлинно неизвестно. По информации турецких СМИ, на строительной площадке происходят забастовки и возникают напряжённые ситуации между российскими и турецкими рабочими. Среди проблем – языковой барьер, условия труда и соблюдение техники безопасности, негативно сказывающиеся на непрерывности работ.
В условиях нарастающего санкционного давления и саботажа со стороны бывших партнёров Росатом вынужден задумываться о привлечении дополнительных партнёров, что позволило бы повысить финансовую устойчивость явно рискующего затянуться проекта.

Как мы писали ранее, прогнозный рост потребления электроэнергии диктует необходимость строительства ещё двух АЭС – в причерноморском Синопе и во Фракии, нестабильная финансово-экономическая ситуация в стране пока не позволяет окончательно решить вопрос с привлечением внешних партнёров. По-видимому, понимая проблемы и не желая складывать энергетические "яйца" только лишь в «атомную корзину», турецкие эксперты продолжают обсуждать строительство новых угольных электростанций в рамках энергетической политики (несмотря на то, что глобальное финансирование добычи ископаемого топлива сокращается из-за проблем с климатом и давления со стороны регулирующих органов)
В публикациях турецких экспертов рассматриваются технические аспекты, проблемы с финансированием и экологические риски, а также более широкая динамика развития политики и конкретные примеры, иллюстрирующие дилемму, с которой столкнулась Турция.
В настоящее время расширение тепловой электростанции Туфанбейли в Адане, возглавляемое компанией Enerjisa, является единственным крупным новым угольным проектом в Турции, который активно реализуется. К 2026 году планируется увеличить мощность на 450 МВт за счёт использования местных запасов бурого угля и предварительного лицензирования, что упрощает получение разрешений.
Другой проект — строительство двух энергоблоков мощностью 344 МВт (общая мощность 688 МВт) на АЭС «Афшин-Эльбистан А» — прошёл оценку воздействия на окружающую среду (ОВОС). Однако его предполагаемая стоимость в 1,5 млрд долларов США указывает на проблему с финансированием: западные банки и экспортно-кредитные агентства в значительной степени отказались от сотрудничества с угольной промышленностью, и в качестве реальных источников финансирования остаются только государственные банки или связанные с государством кредиторы в Китае и России.
За последнее десятилетие было объявлено о строительстве более десятка дополнительных угольных электростанций, в том числе Thrace Integrated Power, Tosyalı İskenderun, Yeşilovacık, Uluköy, Teyo Adana, общей мощностью более 6000 МВт. Но они так и остались на бумаге из-за вследствие следующих основных факторов:
- нежелание инвесторов вкладывать средства в условиях снижения доходности
- высокие страховые взносы, отражающие репутационные и экологические риски,
- продолжающиеся судебные разбирательства и сопротивление местных жителей.
По данным Global Energy Monitor, более 70% предложенных к строительству в Турции с 2015 года угольных электростанций были отменены или отложены на неопределённый срок.
В энергетической политике страны исторически приоритет отдавался безопасности поставок и снижению зависимости от импорта, что вполне объяснимо для страны, вынужденной импортировать около 70% необходимых ей энергоресурсов. Соответственно, уголь, особенно бурый, добываемый внутри страны, казался привлекательным вариантом, в то же время противоречащим некоторым задачам в рамках международных соглашений и программ с участием Турции:
- достижение целей Парижского соглашения и стремление к углеродной нейтральности,
- устранение торговых барьеров в рамках механизма трансграничной углеродной корректировки ЕС (CBAM),
- снижение затрат на производство электроэнергии для сохранения конкурентоспособности.
Национальный энергетический план Турции на 2023–2028 гг. по-прежнему предусматривает строительство новых угольных электростанций, при значительном увеличении доли солнечной и ветровой энергии, что предполагает решение нескольких плохо соотносящихся между собой задач.
Когда амбиции сталкиваются с реальностью
Электростанция Чайырхан Б близ Анкары (мощностью 800 МВт), предложенная в качестве первого в стране проекта государственно-частного партнёрства (ГЧП), получила лицензию в 2017 году. Но и через пять лет остающийся без движения проект не смог получить финансирование, так как европейские и японские кредиторы отказались от него из-за политики в области климата.
Комплексная энергосистема Фракии. Первоначально планировалось, что мощность электростанции в Кыркларели составит 1320 МВт, но проект натолкнулся на жёсткое сопротивления со стороны местных жителей, сопровождаемое многочисленными судебными исками. В 2020 году суды в конечном счёте отменили разрешение на проведение оценки воздействия на окружающую среду, инвесторы тихо отползли от проекта.
Работающая на дешёвом российском угле электростанция Хунутлу (1320 МВт) в Адане, ставшая редким исключением, была построена на китайские средства и введена в эксплуатацию в 2022 году. Однако ещё до завершения строительства аналитики предупреждали о риске потери актива из-за вероятных углеродных тарифов в ЕС, и сейчас экономическая целесообразность станции ставится под сомнение.
Большинство планируемых установок предполагает использование пылевидного угля или технологий циркулирующего псевдосжиженного слоя (CFB). Эти современные технологии обеспечивают надежность, в то же время требуя высоких капитальных затрат. Вступавшие в силу в 2026 году экологические нормы ЕС вводят углеродные тарифы на экспорт высокоуглеродистой электроэнергии.
Напротив, энергия ветра и солнечная энергия сейчас намного дешевле: отчет IRENA за 2024 год показывает, что средняя стоимость использования солнечной энергии упала до 0,045 доллара США за кВтч, что значительно ниже цены на уголь. Турция уже превысила 11 ГВт установленной солнечной энергии и 12 ГВт энергии ветра. Иностранные инвесторы предпочитают эти проекты из-за прозрачности регулирования и низкого репутационного риска.
Длительные сроки окупаемости, будущие затраты на компенсацию выбросов углерода и снижение стоимости возобновляемых источников энергии означают, что новые угольные электростанции рискуют стать «замороженными активами» – технически функционирующими, но нерентабельными.
Государственные банки или инвесторы, поддерживаемые государством, могут по-прежнему финансировать их, но это предполагает долгосрочные финансовые обязательства, в конечном итоге ложащиеся на плечи налогоплательщиков.
Технически Турция способна строить новые угольные электростанции, однако с экономической и экологической точки зрения это всё мнее актуально. Реальной альтернативой является расширение использования возобновляемых источников энергии и систем хранения, призванное снизить зависимость от импорта и при этом выполнить обязательства по защите климата, утверждают сторонники «передовой» энергетической повестки. Насколько убедительными окажутся их аргументы для правительства – покажет уже не столь отдалённое будущее.